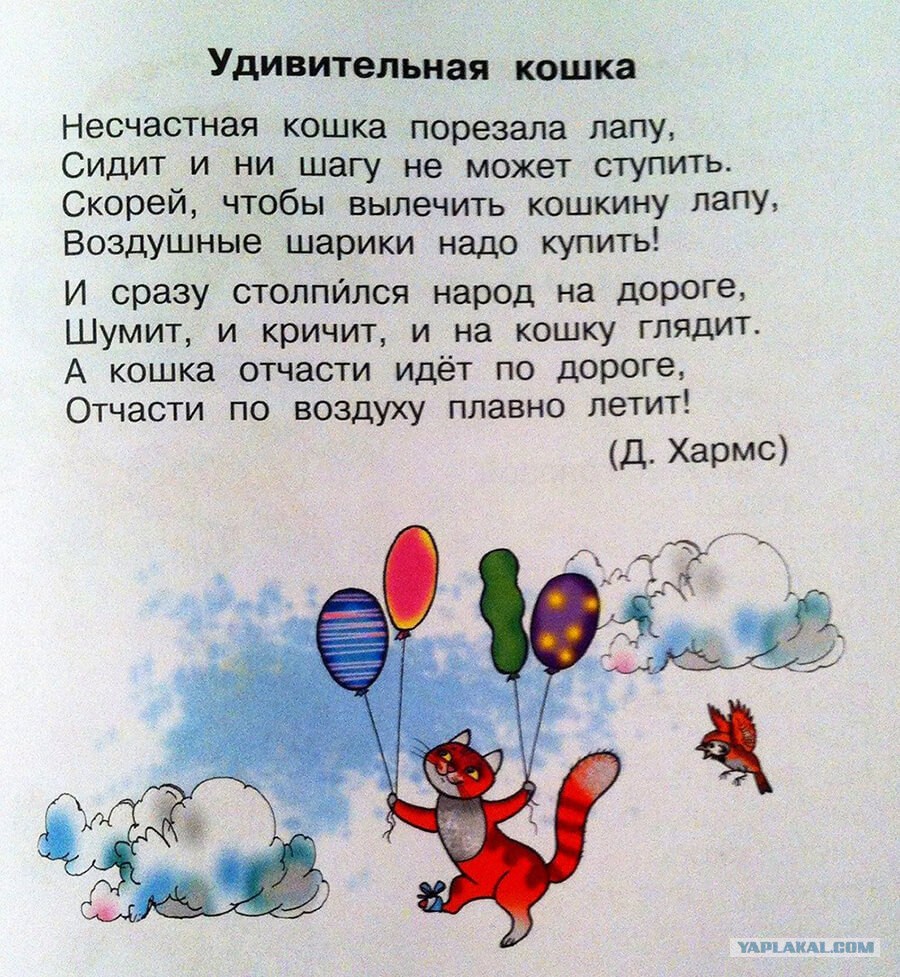- На смерть Казимира Малевича
- МИЛЛИОН
- Хармс и гуро[править]
- Хармс и совок[править]
- МЫ СПЕШИМ СЕГОДНЯ В ШКОЛУ
- Правда ли, что первые «взрослые» стихи Хармса были опубликованы лишь после смерти поэта?
- Хармс и малолетний долбоебизм[править]
- Весёлые чижи
- Хармс и гуманитарий[править]
- Дети и вываливающиеся старухи
- Иван Топорышкин и милиционер
- «…уж лучше мы о нём не будем больше говорить»
- Хармс и юмор[править]
- Романс
- Хармс и творчество[править]
На смерть Казимира Малевича
Памяти разорвав струю,Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо.Имя тебе — Казимир.Ты глядишь, как меркнет солнце спасения твоего.От красоты якобы растерзаны горы земли твоей.Нет площади поддержать фигуру твою.Дай мне глаза твои! Растворю окно на своей башке!Что ты, человек, гордостью сокрушил лицо?Только мука — жизнь твоя, и желание твое — жирная снедь.Не блестит солнце спасения твоего.Гром положит к ногам шлем главы твоей.Пе — чернильница слов твоих.Трр — желание твое.Агалтон — тощая память твоя.Ей, Казимир! Где твой стол?Якобы нет его, и желание твое — Трр.Ей, Казимир! Где подруга твоя?И той нет, и чернильница памяти твоей — Пе.Восемь лет прощелкало в ушах у тебя,Пятьдесят минут простучало в сердце твоем,Десять раз протекла река пред тобой,Прекратилась чернильница желания твоего Трр и Пе. «Вот штука-то»,— говоришь ты, и память твоя — Агалтон.Вот стоишь ты и якобы раздвигаешь руками дым.Меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего,Исчезает память твоя и желание твое — Трр.
МИЛЛИОН
Шёл по улице отряд –
Сорок мальчиков подряд:
Раз,
Два,
Три,
Четыре,
И четыре
На четыре,
И четырежды
Четыре,
И ещё потом четыре.
В переулке шёл отряд –
Сорок девочек подряд:
Раз, два, три, четыре,
И четыре на четыре,
И четырежды четыре,
И ещё потом четыре.
Да как встретилися вдруг,
Стало восемьдесят вдруг!
Раз,
Два,
Три,
Четыре,
И четыре
На четыре,
На четырнадцать
Четыре,
И ещё потом четыре.
А на площадь
Повернули,
А на площади стоит
Не компания,
Не рота,
Не толпа,
Не батальон,
И не сорок,
И не сотня,
А почти что
МИЛЛИОН!
Раз, два, три, четыре,
И четыре
На четыре,
Сто четыре
На четыре,
Полтораста
На четыре,
Двести тысяч
На четыре,
И ещё потом четыре!
ВСЁ!
Хармс и гуро[править]
Напильник как бэ намекает нам…
|
Не хвастаясь, могу сказать, что, когда Володя ударил меня по уху и плюнул мне в лоб, я так его схватил, что он этого не забудет. Уже потом я бил его примусом, а утюгом я бил его вечером. Так что умер он совсем не сразу. Это не доказательство, что ногу я оторвал ему еще днем. Тогда он был еще жив. А Андрюшу я убил просто по инерции, и в этом я себя не могу обвинить. Зачем Андрюша с Елизаветой Антоновной попались мне под руку? Им было ни к чему выскакивать из-за двери. Меня обвиняют в кровожадности, говорят, что я пил кровь, но это неверно: я подлизывал кровяные лужи и пятна — это естественная потребность человека уничтожить следы своего, хотя бы и пустяшного, преступления. А также я не насиловал Елизавету Антоновну. Во-первых, она уже не была девушкой, а во-вторых, я имел дело с трупом, и ей жаловаться не приходится. Что из того, что она вот-вот должна была родить? Я и вытащил ребенка. А то, что он вообще не жилец был на этом свете, в этом уж не моя вина. Не я оторвал ему голову, причиной тому была его тонкая шея. Он был создан не для жизни сей. Это верно, что я сапогом размазал по полу их собачку. Но это уж цинизм — обвинять меня в убийстве собаки, когда тут рядом, можно сказать, уничтожены три человеческие жизни. Ребенка я не считаю. Ну хорошо: во всем этом (я могу согласиться) можно усмотреть некоторую жестокость с моей стороны. Но считать преступлением то, что я сел и испражнился на свои жертвы, — это уже, извините, абсурд. Испражняться — потребность естественная, а, следовательно, и отнюдь не преступная. Таким образом, я понимаю опасения моего защитника, но все же надеюсь на полное оправдание. |
Хармс и совок[править]
|
Мое произведение «Миллион» является антисоветским потому, что эта книжка на тему о пионер-движении превращена сознательно мною в простую считалку. |
| Д.И.Хармс. Из протоколов допроса |
Отношение трудового народа и примкнувших к ним технократов к Хармсу и его произведениям ёмко иллюстрировано им же, см. «новая идея» чуть ниже. Отношение таковое устоялось ещё с первых литературных потуг, но было окончательно закреплено вылетом из ленинградского электротеха (в технике Хармс понимал фейхуя, урокам предпочитал литературные изыскания), в который его и так еле-еле устроил отец. Писатель обиделся, возненавидел пролетариат, показно увлекся христианством и присоединился к интеллигентской оппозиции кухонного разлива.
Понятное дело, что советские издания и так не горели желанием печатать мутную хуиту, а христанутого оопозиционера так и подавно. Тем более что герой не упускал возможности тонко или прямой речью сообщить слушателям какие они быдло, бляди и пидорасы всякий раз когда ему предоставлялась возможность читать на плебс. Тем не менее, до воцарения Сталина Хармса никто особо не трогал. Герой прибивался к различным объединениям паразитов в подбрюшье советской культуры, оные периодически разгонялись ссаными тряпками, работать не хотелось, печатали разве что в детских журналах. Для того, чтобы продолжать есть, Хармсу приходилось писать для детей. Которых он люто, бешено ненавидел. Умела Советская власть ловить лулзы с литераторов!
Нажмите для проигрывания
https://youtube.com/watch?v=Tsy6IBZ_ljM
Плих и Плюх
В 1939 году Хармса осенил хитрый план, и он засел за психиатрические книжки. Просветившись, прилёг в больничку, и таки получил желанный диагноз, и был выпущен на волю. Вялотекущая шизофрения на бумажке ценилась Хармсом боле чем красная книжка — Маяковским. Свободное перемещение, свобода от ареста за троллинг, свобода от призыва в армию, сотни рублей пособия от щедрой и сочувственной советской власти. Впереди замаячила счастливая и безбедная жизнь.
Разумеется, моча придала в голову, Хармс растерял остатки страха и совести, вконец охуел и начал нести такое, что даже гуманная Софья Власьевна была вынуждена принять меры. В августе 1941-го поэта повторно арестовывают за «пораженческие настроения», «контрреволюционную пораженческую агитацию». Забавно, что подобные спичи Хармс произносил в доме жены начальника следственного отдела Ленинградского НКВД. Из постановления на арест:
|
Ювачев-Хармс заявляет: «Советский Союз проиграл войну в первый же день, Ленинград теперь либо будет осажден и мы умрем голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камня на камне… Весь пролетариат необходимо уничтожить, а если мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют; но форму я не одену, и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом.» Ювачев-Хармс ненавидит Советское правительство и с нетерпением ждет смены Сов. правительства. |
Надо понимать, что троллинг тогда был менее распространён и в энкаведешных головах просто не укладывалось, как можно говорить такое вслух во время военного положения, тотальной мобилизации и ужасающей обстановки на фронтах и при этом быть в трезвом уме, «Когда мы его скрутили, то поняли, что это именно он был источником смрада в этой квартире, все его тело и его дыхание источало невыносимую вонь, нам пришлось очень постараться, чтобы доставить его в управление. В управлении никто не знал, как поступить в данном случае, да и человек был явно болен, поэтому его отправили в психиатрическое отделение» — сообщает любознательному читателю озадаченный НКВДэшник. В результате Даниил Хармс не получил вышку, а был направлен на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу с диагнозом «шизофрения».
Возможно, это было just as planned, рассчитанным средством избежать фронта. Однако, как бы там ни было, в 1942 году сабж тихо помер от легкого голода в том же самом дурдоме. Вот и понимай, как хочешь, вин или фэйл…
МЫ СПЕШИМ СЕГОДНЯ В ШКОЛУ
На стене часы у нас
Прозвонили восемь раз.
В это время я проснулся
И глаза открыл как раз.
Я проснулся —
И тотчас же
В брюки сунул две ноги.
Потянулся —
И тотчас же
Прыгнул прямо в сапоги!
А потом схватил рубашку,
Сунул руки в рукава,
Сунул голову в рубашку,
Но застряла голова.
Наконец, надев рубашку,
Я на улицу бегу,
А тужурку и фуражку
Надеваю на ходу.
Я фуражку
И тужурку
Надеваю
На ходу,
Потому что
День
Сегодня
Самый
Лучший
День
В году.
Потому что
День сегодня
Самый лучший день в году,
Потому что
Я сегодня
В школу
В первый раз бегу.
Я войду сегодня в школу,
Прямо в школу
В первый раз!
Я войду —
Часы ударят
В колокольчик девять раз.
Эй вы, люди, расступитесь!
Пропустите, люди, нас!
Мы бежим сегодня в школу,
Прямо в школу —
В первый класс!
Правда ли, что первые «взрослые» стихи Хармса были опубликованы лишь после смерти поэта?
«…значительнейшая книга 1926 г. выйдет в январе. «Необычайные свидания друзей» открывает хорошую эпоху. УЧАСТВУЮТ ПРЕКРАСНЫЕ: А. Авраамов, И. Афанасьев-Соловьев, М. Березин, А. Введенский, Э. Криммер, С. Полоцкий, В. Ричиотти, Л. Рогинский, К. Сотонин, С. Спасский, Д. Хармс, Е. Хигер, Г. Шмерельсон, В. Эрлих».«значительнейшая книга»Александр Введенский«Уважаемый Борис Леонтьевич, мы слышали от М. А. Кузмина о существовании в Москве издательства «Узел». Мы оба являемся единственными левыми поэтами Петрограда, причем не имеем возможности здесь печататься. Прилагаем к письму стихи, как образцы нашего творчества, и просим Вас сообщить нам о возможности напечатания наших вещей в альманахе «Узла» или же отдельной книжкой. В последнем случае мы можем выслать дополнительный материал (стихи и проза).
Даниил Хармс
александрвведенский
3 апр. 1926.
Петербург».«Чинарь-взиральник (случай на железной дороге)»«…Помню еще, что он раньше говорил, что чтобы писать такие стихи, как он (взирь-заумь), надо влезть на шкаф и посмотреть на комнату сверху: «Тогда увидишь все иначе»».
Хармс и малолетний долбоебизм[править]
В письме к сестре Хармс даёт блестящую характеристику малолетним долбоебам:
Дорогая Лиза,
поздравляю Кирилла с днём его рождения, а также поздравляю его родителей, успешно выполняющих предписанный им натурой план воспитания человеческого отпрыска, до двухлетнего возраста не умеющего ходить, и затем со временем начинающего крушить всё вокруг, и, наконец, в достижении младшего дошкольного возраста, избивающего по голове украденным из отцовского письменного стола вольтметром свою любящую мать, не успевшую отвернуться от весьма ловко проведённого нападения своего, не совсем ещё дозревшего ребенка, замышляющего уже в своём недозрелом затылке, ухлопав родителей, направить всё своё преостроумнейшее внимание на убелённого сединами дедушку, и, тем самым, доказывающего своё по летам развернувшееся умственное развитие, в честь которого сего года 28 февраля соберутся кое-какие поклонники сего, поистине из ряда вон выходящего явления, и в числе которых, к великому моему прискорбию, не смогу быть я, находясь в данное время в некотором напряжении, восторгаясь на берегах Финского залива присущим мне с детских лет умением, схватив стальное перо и окунув его в чернильницу, короткими и чёткими фразами выражать свою глубокую и подчас даже некоторым образом весьма возвышенную мысль.
28 февраля 1936 года
Весёлые чижи
Жили в квартиреСорок четыреСорок четыреВеселых чижа: Чиж-судомойка, Чиж-поломойка, Чиж-огородник, Чиж-водовоз, Чиж за кухарку, Чиж за хозяйку, Чиж на посылках, Чиж-трубочист.Печку топили,Кашу варили,Сорок четыреВеселых чижа: Чиж с поварешкой, Чиж с кочережкой, Чиж с коромыслом, Чиж с решетом, Чиж накрывает, Чиж созывает, Чиж разливает, Чиж раздает.Кончив работу,Шли на охотуСорок четыреВеселых чижа: Чиж на медведя, Чиж на лисицу, Чиж на тетерку, Чиж на ежа, Чиж на индюшку, Чиж на кукушку, Чиж на лягушку, Чиж на ужа.После охотыБрались за нотыСорок четыреВеселых чижа: Дружно играли: Чиж на рояле, Чиж на цимбале, Чиж на трубе, Чиж на тромбоне, Чиж на гармони, Чиж на гребенке, Чиж на губе!Ездили всем домомК зябликам знакомымСорок четыреВеселых чижа: Чиж на трамвае, Чиж на моторе, Чиж на телеге, Чиж на возу, Чиж в таратайке, Чиж на запятках, Чиж на оглобле, Чиж на дуге!Спать захотели,Стелят постели,Сорок четыреВеселых чижа: Чиж на кровати, Чиж на диване, Чиж на корзине, Чиж на скамье, Чиж на коробке, Чиж на катушке, Чиж на бумажке, Чиж на полу.Лежа в постели,Дружно свистелиСорок четыреВеселых чижа: Чиж — трити-тити, Чиж — тирли-тирли, Чиж — дили-дили, Чиж — ти-ти-ти, Чиж — тики-тики, Чиж — тики-рики, Чиж — тюти-люти, Чиж — тю-тю-тю!
Хармс и гуманитарий[править]
Нажмите для проигрывания
«Однажды лев, слон, жирафа…»
Гуманитарные опровержения матана Хармсом
Беру на себя смелость утверждать следующее:
Смотрите внимательнее на ноль, ибо ноль не то, за что вы его принимаете.
Понятие «больше» и «меньше» столь же недействительно, как понятие «выше» и «ниже». Это наше частное условие считать одно число больше другого и по этому признаку мы расположили числа, создав солярный ряд. Не числа выдуманы нами, а их порядок. Многим покажется, что существо числа всецело зависит от его положения в солярном ряду,— но я беру на себя смелость утверждать, что число может быть рассматриваемо самостоятельно, вне порядка ряда
И только это будет подлинной наукой о числе.
Предполагаю, что один из способов обнаружить в числе его истинные свойства, а не порядковое значение, это обратить внимание на его аномалии. Для этого удобно 6
Но впрочем, пока я об этом распространяться не буду.
Предполагаю и даже беру на себя смелость утверждать, что учение о бесконечном будет учением о ноле. Я называю нолем, в отличие от нуля, именно то, что я под этим и подразумеваю.
Символ нуля — 0. А символ ноля — О. Иными словами, будем считать символом ноля круг.
Должен сказать, что даже наш вымышленный, солярный ряд, если он хочет отвечать действительности, должен перестать быть прямой, но должен искривиться. Идеальным искривлением будет равномерное и постоянное и при бесконечном продолжении солярный ряд превратится в круг.
Правда, это не будет основным учением о числе, но в нашем понятии о числовом ряде это будет существенной поправкой.
Постарайтесь увидеть в ноле весь числовой круг. Я уверен, что это со временем удастся. И потому пусть символом ноля останется круг О.
Дети и вываливающиеся старухи
Вернёмся к вопросу, с которого начали: почему же известный детский писатель не любил детей? Автор его биографии «Жизнь человека на ветру» Валерий Шубинский предполагает, что Хармс видел в детях своих экзистенциальных соперников. Для ребёнка, как писал ещё Корней Чуковский в своей известной работе «От двух до пяти», слово «имеет такой же конкретный характер, как и та вещь, которую оно обозначает. Оно, так сказать, отождествляется с вещью». Играя со словами, ребёнок играет с самой реальностью.
Поэтому для ребёнка мир ещё не опредмечен, не закован в твёрдые формы.
Дети, в отличие от взрослых, могут видеть мир впервые, связи между вещами для них ещё не до конца установлены. Как в известном стихотворении Хармса, ребёнок может внезапно перестать быть самим собой: «Я теперь уже не Петька, я теперь автомобиль». В игровом мире каждый закон в любой момент может быть нарушен. Точно также и поэзия обэриутов разрушает привычные связи между фрагментами реальности.
Но если сначала казалось, что эти связи можно проложить по-новому, увидев мир в его целостности, то постепенно Хармс приходит к логике, в которой нет вообще никакой связи — к логике абсурда. Как выразился Александр Введенский, «я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени».
В самом первом опубликованном стихотворении Хармса («Как-то бабушка махнула…») дети соседствуют с «бабушкой». Что-то объединяет эти два возраста — ту же связь мы находим в повести «Старуха». Рассказчик находит в своей комнате мёртвое тело, от которого никак не может избавиться.
«— А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? — спросил я.— Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники все-таки не врываются в нашу жизнь, — сказал Сакердон Михайлович.— Врываются! — крикнул я и сейчас же замолчал».
Покойник — явный знак присутствия смерти, то есть неотвратимого события, которое труднее всего осмыслить с помощью разума. Дети находятся на другом конце жизненного цикла, в котором мир далёк от распада, но ещё не обрёл устойчивые очертания. Вероятно, поэтому ребёнок и вызывает у Хармса такие противоречивые чувства. Писатель, который очень хорошо умел смотреть на мир глазами ребёнка, видел чуть-чуть дальше детского взгляда.
Некоторые трактуют произведения Хармса как сатиру на советский режим. Так, даже в детском стишке о самоваре можно увидеть пародию на уравнительный механизм распределения благ и предсказание его будущего краха («Наклоняли самовар, / Будто шкап, шкап, шкап, / Но оттуда выходило / Только кап, кап, кап»). Но если бы это была только сатира, то ни дети, ни взрослые спустя почти сто лет просто не стали бы читать и перечитывать эти произведения. Этого не происходит — популярность Хармса, напротив, лишь растёт. Здесь всё глубже, а потому интереснее.
Поэтому старухи продолжают вываливаться из окон — от «чрезмерного любопытства», как замечает рассказчик, а не от страшной советской действительности и жестокости «кровавого режима».
За спонтанной и весёлой детской игрой следует распад всякого определённого смысла. Так детская литература, вызывающая восхищение у детей, становится литературой абсурда, которая вызывает не меньшее восхищение, но в то же время и ужас. Герой, который не знает, откуда на улице взялся тигр, перестаёт понимать, кто он такой, бросается по улице с криком «Ого-го!» и растворяется в воздухе.
Иван Топорышкин и милиционер
Окажись вы на месте Хармса в 1930-е годы, у вас было бы не так уж много способов легального существования. Можно было зарабатывать на жизнь переводами, можно было писать в стол, занимая простенькую должность при каком-нибудь министерстве. Можно было, наконец, сочинять произведения для детей. Для Хармса, как и для Александра Ивановича Введенского, это было наиболее приемлемым вариантом.
Даже их «взрослые» произведения в чём-то были немного «детскими» — и наоборот, в самых, на первый взгляд, невинных произведениях для детей угадывались черты абсурда и деформированной реальности, которые наиболее ярко выражены в произведениях, о публикации которых они не могли даже помышлять.
Возьмём для примера одно из самых известных детских стихотворений Хармса, повествующее о неудачной охоте.
Иван Топорышкин пошёл на охоту,с ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.Иван, как бревно провалился в болото,а пудель в реке утонул, как топор.
Иван Топорышкин пошёл на охоту,с ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.Иван повалился бревном на болото,а пудель в реке перепрыгнул забор.
Иван Топорышкин пошёл на охоту,с ним пудель в реке провалился в забор.Иван как бревно перепрыгнул болото,а пудель вприпрыжку попал на топор.
Первая строфа ещё содержит в себе какой-то смысл, хоть и неутешительный: главный герой отправляется на охоту и сразу же погибает. Не произошло ни одного события, а повествование уже завершено. К концу стихотворения смерть Топорышкина и его пуделя остаётся всё такой же бесславной, но окончательно лишается всякой логики. За счёт перестановки элементов стиха реальность распадается, превращается в остроумное нагромождение слов: пудель «в реке» проваливается в забор, Иван перепрыгивает болото почему-то «как бревно».
В лексиконе обэриутов бессмысленная, вырванная из своего контекста вещь называлась «фарлушкой».
Первой фарлушкой был обледенелый предмет с торчащими из него железками, найденный Николаем Алексеевичем Заболоцким и Игорем Владимировичем Бахтеревым недалеко от квартиры Хармса. Мир, состоящий из бессмысленных обломков-фарлушек — итог многих «взрослых» произведений Хармса. Сравните стихотворение об Иване Топорышкине с прозаическим фрагментом под названием «Сон Калугина»:
«Калугин заснул и увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул, и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер. Заснул и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер.
Тут Калугин проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул и увидел сон, будто он сидит за милиционером, а мимо проходят кусты. Калугин закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не мог».
Здесь всё тоже заканчивается невесело. Проспав четыре дня, Калугин страшно отощал, в булочной вместо пшеничного хлеба ему подсунули полуржаной, а под конец санитарная комиссия, пройдя по квартирам с проверкой, признала Калугина антисанитарным. «Калугина сложили пополам и выкинули его как сор». Разница только в том, что детское стихотворение до конца остаётся игровым и как бы сказочным, а второе, взрослое, наполнено гнетущим бытом. Нарушение порядка пресекают его бдительные стражи — милиционеры, дворники и санинспекции.
«…уж лучше мы о нём не будем больше говорить»
В стихотворении, которое принадлежит уже другому члену ОБЭРИУ Юрию Владимирову, девочку отправляют в магазин за покупками. Пока до неё доходит очередь, Нина забывает, за чем её туда послали: предметы в голове путаются местами, получается абсурд.
Наконец, очередь Нинки.Нина твердит без запинки:— Дайте фунт кваса,Бутылку мяса,Спичечный песок,Сахарный коробок,Масло и компот.Деньги — вот.
Но если покупки юной Ниночки заканчиваются более-менее благополучно (продавец только удивляется диковинной просьбе о спичечном песке и сахарном коробке — «верно, товар заграничный»), то читатель Хармса хорошо знает, что поход в магазин легко может обернуться для героя катастрофой. В рассказе «Жил-был человек» некий Кузнецов отправляется в лавку за столярным клеем, потому что у него сломалась табуретка. Внезапно на Кузнецова падает кирпич.
«Кузнецов упал, но сразу же вскочил на ноги и пощупал свою голову. На голове у Кузнецова вскочила огромная шишка. Кузнецов погладил шишку рукой и сказал:— Я гражданин Кузнецов, вышел из дома и пошёл в магазин, чтобы… чтобы… чтобы… Ах, что же это такое! Я забыл, зачем я пошёл в магазин!»
Падает второй кирпич, а затем и третий. Кузнецов забывает, куда он пошёл и откуда вышел (из погреба? а может из бочки?) В конце концов Кузнецов забывает, кто он такой, а затем полностью лишается разума.
«— Ну и ну! — сказал Кузнецов, почесывая затылок. — Я… я… я… Кто же я? Никак я забыл, как меня зовут? Вот так история! Как же меня зовут? Василий Петухов? Нет. Николай Сапогов? Нет. Пантелей Рысаков? Нет. Ну кто же я?
Но тут с крыши упал пятый кирпич и так стукнул Кузнецова по затылку, что Кузнецов окончательно позабыл всё на свете и крикнув «О-го-го!», побежал по улице».
Если в детских произведениях обэриутов «звезда бессмыслицы», по выражению философа Якова Друскина, сияет не слишком ярко, то их взрослые сочинения с определённого момента оказываются насквозь пронизаны абсурдом. В «Ёлке у Ивановых» Александра Введенского Рождество превращается в настоящий конец света, а Хармс начинает писать короткую прозу, в которой каждый раз оказывается, что писать здесь, в общем-то, не о чем. Как в рассказе о рыжем человеке, у которого не было глаз и ушей, рук, ног и даже внутренностей — вообще ничего не было. Рассказчик заключает: «лучше мы о нём не будем больше говорить».
Стремление разрушить привычные взаимосвязи между вещами доходит до своего предела. Поэтому многие произведения Хармса вызывают не только смех, но и лёгкий ужас.
Хармс и юмор[править]
|
Есть несколько сортов смеха. Есть средний сорт смеха, когда смеется и весь зал, но не в полную силу. Есть сильный сорт смеха, когда смеется та или иная часть залы, но уже в полную силу, а другая часть залы молчит, до нее смех в этом случае совсем не доходит. Первый сорт смеха требует эстрадная комиссия от эстрадного актера, но второй сорт смеха лучше. Скоты не должны смеяться. |
| Хармс |
Анекдоты из жизни Пушкина:
|
Пушкин был поэтом и все что-то писал. |
Романс
Безумными глазами он смотрит на меня —Ваш дом и крыльцо мне знакомы давно.Темно-красными губами он целует меня —Наши предки ходили на войну в стальной чешуе.Он принес мне букет темно-красных гвоздик —Ваше строгое лицо мне знакомо давно.Он просил за букет лишь один поцелуй —Наши предки ходили на войну в стальной чешуе.Своим пальцем в черном кольце он коснулся меня —Ваше темное кольцо мне знакомо давно.На турецкий диван мы свалились вдвоем —Наши предки ходили на войну в стальной чешуе.Безумными глазами он смотрит на меня —О, потухнете, звезды! и луна, побледней!Темно-красными губами он целует меня —Наши предки ходили на войну в стальной чешуе.
Хармс и творчество[править]
|
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен. |
| Хармс |
Считая скучным и вторичным работать в уже обозначенных жанрах и направлениях, как то: литература или театр, — Хармс предпочитал работать с «реальностью первого порядка», то есть с самой жизнью, став персонажем собственного творчества. Результатом такого подхода к «реальному искусству» стало богатое литературное наследие автора, ложно именуемое неофитами-прыщеблядками «наркоманским», три года исправработ за антисоветскую деятельность в искусстве, а также диагноз «шизофрения» (который, по одной из версий, он сам симулировал чтобы избежать гнева Красной Гебни).
И всё-таки автор доставляет сотнями взаимоисключающих параграфов, троллингом всех и вся, изображением из себя небыдла с чрезмерно высоким ЧСВ и атсральными рассказами (с проном или собачками).